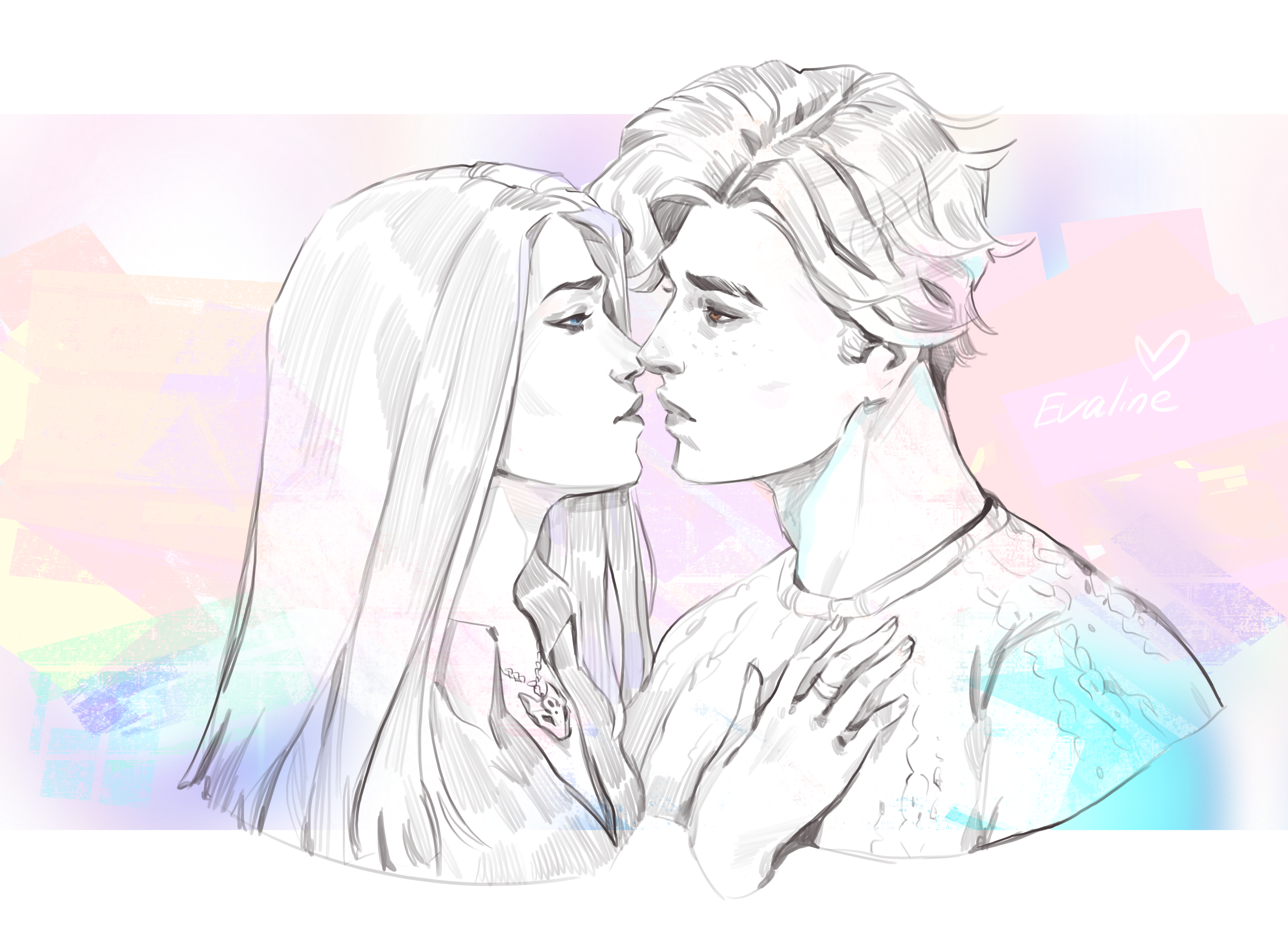Вика приходит снова, как и семь дней подряд до этого, плотно прикрывая за собой белую пластиковую дверь. Только на этот раз не в форме, не в гражданском — в человеческом (её принадлежность к погонам выдает разве что запись в журнале посещений, сделанная слишком уж аккуратным почерком студентки-санитарки). В мягком свитере и серых джинсах её легко принять за одну из посетительниц городской женской консультации: девушку, дочь, мать, подругу — сестру.
Вика знает не понаслышке, как важно в такие моменты видеть перед собой человека: лицо, способное слушать, сопереживать — выражать хоть какое-то эмоции, а не молча требовать ответов. Поэтому без слов присаживается на край стула рядом с кроватью: Вере всё ещё не рекомендовано вставать. Вера прижимает к груди потрёпанного плюшевого мишку и ворчит ему в ухо:
— Я же сказала, что не буду ничего говорить. Не буду давать никаких показаний!
О таком — не говорят. И Вика не настаивает.
— Хорошо, — легко соглашается она, придушивая жаркий порыв гнева, — я просто пришла тебя навестить.
— Серьезно?
Большие тёмные глаза Веры, обрамленные пушистыми ресницами, смотрят на неё с недоверчивой надеждой, а не скепсисом, который старательно она вворачивает в голос. Вика кивает. И с улыбкой — от напряжения подрагивают уголки губ — рассказывает о своих студенческих годах и парнях.
Парне. Одном. Единственном.
Вика делится этим уже без какой-либо надежды на результат.
О таком не рассказывают: хранят в секрете до тех пор, пока результаты анализов не бросят в жар, пока в полицию не позвонят из администрации женской консультации и не сообщат о механических повреждениях.
— Я не хотела, — вдруг прерывает Викин рассказ Вера, подтягивая колени к груди, — оно случайно вышло. Ну то есть…
«Это моя вина», — слышит Вика свой голос сквозь года за мгновение до того, как это сорвется с искусанных и разбитых губ Веры.
— Он сказал, что это всего лишь игра. И что всё так и должно быть, и…
«…что все так делают регулярно и даже по несколько раз в день — только глупенькие боятся», — знает Вика.
Пальцы скручивают ломкие волосы в пучок, не с первого раза. Покусанные ногти больно цепляются за пряди. Вика шипит кошкой, чьи права только что ущемили.
— Мы с ним встречались довольно долго…
«Почти год», — вздыхает про себя Вика, но продолжения не слышит.
Закашлявшись, Вера тянется в сторону графина с водой; синяки на смуглом предплечье отцветают анютиными глазками, едва заметные бордовые браслеты на коже — слишком привычный след, чтобы задерживать на нём взгляд. Вика торопливо подаёт Вере стакан. Расплескав половину на пол.
Вера пьёт жадно, рваными неровными глотками, но не отводит от Вики взгляда. Не то следит, чтобы она, наплевав на формальности, не включила диктофон, не то оценивает её как следователя, человека — женщину.
Стакан едва не разбивается — Вика ловит его почти у пола, ногтями зацепив рисунок маков, и аккуратно ставит на место. Вера пытается залезть под одеяло.
— Так вот, мы встречались целых три месяца. И он говорил, что всё серьёзно, что он…
«Никогда не встречал такую, как я», — уголки губ опускаются; Вика медленно, надавив на запяточную часть, стягивает кеды.
— Он был прав, по-своему, — Вера растопыривает пальцы; под ногтями эпителия не было: она не пыталась отбиваться, даже не думала. — Я соглашалась с ним. Он напоминал мне, что делал для меня…
«Водил в кино…»
— Заказывал суши.
«Давал попользоваться компьютером», — Вика подтягивает колено к груди и устраивает на нём подбородок. Смотрит на Веру, как Алёнушка в мутную воду, и видит своё отражение.
— Водил на скалолазанье.
«Подкармливал батончиками».
— Заказывал доставку цветов, — Вера качает головой головой, — справедливо было бы, чтобы и я, со своей стороны, хоть что-нибудь сделала.
— А неужели… — Вика заходится в кашле, и почти сразу видит перед собой стакан воды в мелко трясущейся Вериной руке; сделав пару глотков, продолжает: — Спасибо. И прости, пожалуйста. Так вот, неужели же ты ничего не делала?
Вера ведет плечом.
Вика знает — делала: наверняка, нет-нет, да готовила, приободряла его, поддерживала, баловала милыми подарками, угождала, уступала — да любила, в конце концов, наивно и слепо, как дура.
— Перед тем, как всё… случилось, — Верин голос понижается до мышиного писка, пальцы трясутся, Вика накрывает их своею рукой. — Он… Он думал, что я меркантильная, а мне его деньги нужны и не были вовсе. Но я не хотела. Не так. Так мне было страшно. Он сказал, он попросил…
«Докажи, что я тебе важен и нужен», — говорили его светлые глаза, жадно пожирающие её, обнаженную.
— А я… А я… Я не хотела. Я отбивалась. Но когда всё случилось, он… Он сказал, что всё так и было задумано и что мне должно было быть… Больно. Он убедил, что… Что я сама его попросила об этом.
— Что я сама его попросила об этом.
Слова срываются с языка лёгким эхом, припечатывающим к месту. Вику мелко трясёт вместе с Верой. Приходится стиснуть зубы, чтобы не стучали, и мягко привлечь к себе Веру. Она утыкается лбом ей в плечо и сопит — терпит, сдерживает эмоции, пока ещё их выпускать на волю опасно. Вика неровно гладит её по непослушным кудрям.
Хорошо, что в палате никого. У проницательных женщин постарше возникли бы вопросы: отчего у следователя покраснели веки и тушь потекла по виску вниз.
— Ты не виновата, — шепчет Вика, прикрывая глаза. — Если ты точно сказала нет, если ты говорила, что не готова, ты не виновата. И уж точно никто не позволял ему ограничивать твою свободу против твоей воли, доводить тебя до больничной койки. Никакая игра, никакое действие не может быть совершено против твоей воли.
— А как же сессия? Или работа? Это разве не виды насилия?
Вера, шмыгнув носом, отодвигается, а Вика смеется: это другое. У Вики, конечно, на кончике языка самый главный вопрос — ради которого она (и ещё половина полиции по распоряжению отца девочки) и кружит коршуном вокруг Веры восьмой день — но она терпеливо молчит. Вера в задумчивости жамкает кудри и вдруг поднимает на Вику глаза. И в этом прищуренном взгляде и гордо вздернутом носе Вика, пожалуй, узнает начальника военчасти, приезжавшего ругаться к её начальству.
— У него было восемь дней. — Вера выплёвывает слово за словом. — А он так и не объявился. Даже сраного букета не прислал. Не спросил, как я, даже ни через одну из подруг. Даже его друг приходил, под окнами стоял, его не пустили, но он мне моего мишку принес. Из его квартиры. Я у него в черном списке. Виктория Сергеевна, я готова говорить под протокол.
— Уверена? — спрашивает Вика, извлекая из чехла лаптоп; шаблон протокола — всегда на рабочем столе.
Вера кивает. И пальцы начинают мелькать по клавиатуре до зудящего жара в подушечках.
А когда Вика собирается уходит, Вера окликает её на пороге с неровной, дрожащей улыбкой:
— Виктория Сергеевна! Вы — чудо-женщина.
— Это моя работа, — усмехается Вика и торопится выйти вон.
На улице солнце щиплет глаза, и так слепые от слёз. Оперативник Толя — в панели быстрого набора, самый актуальный контакт.
— Толь! Толь!
Едва прекращаются гудки, Вика торопится выдать всю информацию Толе. Прежде, чем её разорвет на мельчайшие пылинки. Запрокинув голову, она шумно дышит в трубку и повторяет, как мантру:
— Толь! Она назвала. Назвала имя! Толь! Я знаю, кого надо искать! Имя скину.
Что отвечает ей Толя, Вика не слышит: слишком сильно гудит кровь в ушах. Вика прерывает звонок, падает на скамейку, больно ударяясь копчиком, и складывается пополам, пряча лицо в ладонях.
— Ты молодчина, Виктория Сергеевна. Только что ж ты трубку кидаешь? Я ж сказал, что тебя жду.
Над ухом насмешливо звучит мягкий голос, на плечо ложится тёплая ладонь — Вика с визгом соскакивает со скамьи. Мирно дремлющие у дымящихся люковых крышек голуби с нестройными хлопками подлетают на месте, несколько женщин оборачиваются на них. В их глазах — любопытство, осуждение, зависть и даже как будто готовность помочь.
— Прости, — тихо выдыхает Вика, присаживаясь на край скамьи.
Толя покорно опускается на противоположный:
— Виктория Сергеевна, что случилось?
Вика мотает головой и, зажав губы тыльной стороной ладони, молча всхлипывает. О таком не говорят — такое намётанному глазу видно, поэтому Толя медленно пододвигается ближе.
— О боже…
Вика отрицательно мотает головой: в целом, всё вышло не так плохо, как у Веры, но вполне могло закончиться и похуже.
— Ты поэтому пошла в полицию?
Вика пожимает плечами. Конечно, поэтому. А ещё потому, что однажды её, пьяненькую, от приставаний спас какой-то мальчишка-пэпээсник.
— Я ненормальная, Толь, — всхлипывает Вика рвано, стараясь стереть слёзы, которые теперь льются без остановки как будто бы за все годы молчания. — Мне не место… Здесь.
— А в полиции нормальных нет, — хмыкает Толя, по миллиметру пододвигаясь ближе и ближе, — тут либо идеей ударенные, либо сволочи.
— И кто я? В твоей иерархии? На последнем слове Вика начинает заикаться. Её морозит от мыслей, слёз и чувств, слишком резко выплеснувшихся наружу.
— Ты? Ты человек, — Толя улыбается, и кажется, что в ямочках на его щеках хранятся капельки солнца. — А ещё ты дрожишь. Можно?
Вика затравленно кивает и невольно сжимается, когда Толя накрывает её дрожащие плечи объятиями, как мягким одеялом. Ей это всё так чуждо.
— Я никому не позволю тебе навредить, обещаю.
Толя бережно прижимается губами к её макушке. И Вика расслабляется в его руках.